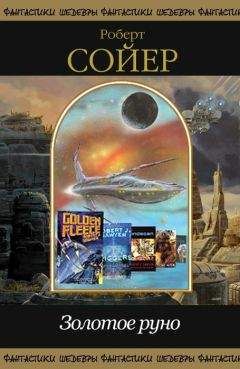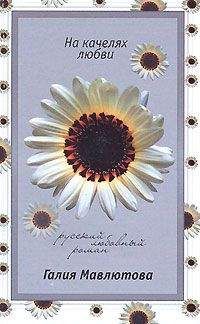— Тоже родня! Так где они? — жестко спросил директор.
— Всех и не упомню… Знаю, что есть в Германии и вроде еще — в Румынии…
— Та-ак… И чем они занимаются там? Не пишут?
— Не пишут.
— Так что они там делают?
— А лежат.
— Как это — лежат?
— Кто как, товарищ директор. Кто, значит, как положен, но больше всего — в братских… в могилах.
Переглянулись.
— Ты мне Швейка не разыгрывай! А коль спрашивают о деле, так по делу и отвечай, а то полетишь у меня, не посмотрю, что работник хороший! Ишь он…
Второй вмешался спокойней:
— Скажите, вы читаете газеты?
— И книги.
— Хорошо. Что же сейчас ожидается в мире?
— Ну, этого не перескажешь.
— Вы же увлекаетесь спортом…
— Ну, ожидаются Олимпийские игры.
— Вот! — включился в разговор директор. — Мы тебя рекомендуем туда…
— Да что вы! — махнул я рукой. — Я так задавлен работой и учебой, что нынче даже на городских соревнованиях срезался!
— При чем тут твои соревнования? Ты поедешь туда на более серьезное дело, чем руками махать. Работать едешь, и работать за троих, поскольку многих туда посылать — накладно.
— Так я туда — поваром?
— А ты думал, министром иностранных дел? Ты наработаешь!
— Ничего не понимаю…
— Наша спортивная делегация выезжает со своим обслуживанием, и на хорошем уровне. Едут хорошие специалисты, но сразу скажу: гулять действительно будет некогда, — так же спокойно закончил представитель главка и мягко закрыл папку моего «личного дела».
— Сейчас же иди оформляться в главк. Там уже сидят, соколики, анкеты оформляют, — поторопил меня директор. — Да смотри там, за границей-то, работай как надо, чтобы мне не стыдно было потом!
— До сих пор на мою работу никто вроде не жаловался.
— Знаю. Молодец, потому и посылаем. А если там по зубам кому захочешь дать, так хоть оглянись сначала!
— Так и сделаю! До свиданья!
…Восемнадцать лет. Даже в том бесшабашном возрасте я, кажется, понимал, что меня ожидает не только напряженная работа — ее ли мне было бояться! — но и редкое, не каждому выпадающее счастье видеть целый мир в одной точке Земли. Никогда не изгладится из памяти трепетное чудо разнофлажья на высоких трибунах Олимпийского стадиона в Хельсинки — этот разноцветный и мощный ореол всечеловеческого единства.
Там же, в Финляндии, я встретил пожилого, подавленного человека, полубезработного грузчика. Из недолгого разговора с ним мне стало известно, что это русский эмигрант, бывший матрос. Как-то вечером я сидел на краю тренировочного стадиона в студенческом городке Отаниеми, под Хельсинки, отдыхал после работы и ко мне подсел покурить этот человек, тоже закончивший работу. Десять минут — и открылась мне чужая жизнь, непростая судьба.
Полтора десятилетия жила во мне память о том разговоре, стояло передо мной лицо этого человека. Непролитой тучей томило душу, пока однажды она не выплеснулась в повести и не получила того самого «очищения» или разрядки, которую еще Аристотель подметил и назвал катарсисом…
Перед ужином я уединился на просторном балконе-солярии, куда вышел через стеклянные двери большого холла на втором этаже. Вечер был теплым, он продолжал разрушать наше северное представление о ноябре как о месяце капризного, а порой сурового предзимья. Вокруг темнели величественные кроны деревьев. С деревенской центральной улицы слабо доносились голоса, а направо, под кущами Священной рощи, стояла тишина. Я не знаю, ходят ли туда по вечерам местные жители, но наши парни потащились куда-то через рощу, в сторону реки Алфей, Это хорошо. Я сам люблю побродить вечерами в чужом городе, даже люблю заблудиться и решать географические кроссворды, и будь сегодня другое настроенье, сейчас бы шел с ними на эту потухающую за рощей зарю.
Впрочем, мои братья-разбойники пошли не за зарей, не за вечерним туманом, а за самым настоящим виноградом. Кто-то успел во время экскурсии уклониться метров на четыреста за мастерскую Фидия и притащил совсем неплохого черного винограда. Налетчик утверждал, что там целая плантация и — ни души. В руках у меня была полузабытая кисть этого винограда.
В холле заработал телевизор, я пошел на эти проклятые звуки, поигрывая полуобъеденной веткой.
— Хотите, я буду вам переводить? — послышался знакомый голос.
Налево, у высокого окна, наполненного фиолетовыми сумерками, сидела в кресле мадам Каллерой. Сумерки за стеклами казались гуще, от того что на стене было зажжено бра. Люстру не зажигали, потому что все амазонки в синих платьях плотной стайкой торчали сейчас у телевизора, занятые каким-то американским фильмом. Лишь одна полыхнула улыбкой в мою сторону — та, которую я внес и отель вместе с чемоданом.
Я приблизился к мадам Каллерой и, повинуясь ее жесту, сел на свободное кресло по другую сторону крохотного столика.
— Я буду вам переводить! Хотите? — повторила она.
— Спасибо, мадам Каллерой, не надо переводить. Вы и без того много тратите сил.
— Я устаю больше от уличных экскурсий: на воздухе голосовые связки устают сильней, чем в помещении.
— Да, естественно… Однако на экране какие-то страсти-мордасти начинаются.
— Страсти-мордасти? — удивилась она, видимо, эта незначительная тонкость языка была для нее в новинку. — А! понимаю! Это страхи, похожие на отвратительные морды?
— Совершенно верно!
Все-таки язык она знала хорошо. Меня давно подмывало спросить ее, где удалось гречанке одолеть один из труднейших языков мира. Однако у меня был к ней вопрос и посерьезнее, возникший еще на пароме, но как тут спросишь, если она твердо ответила: подробности в Афинах! Зачем загадки? На разговор она была не настроена, и я позавидовал приятелям, что крадутся сейчас, как школьники, по виноградинку, испытывая дьявольски приятное ощущенье озорного детства. Возможно, даже ползут по-пластунски, забыв свои писательские званья… Не попались бы, паразиты!
— О! Что я вижу!
— Да, мадам Каллерой? — Я учтиво повернулся к ней, поигрывая ворованной веткой винограда.
— Вы едите этот виноград?
— Да… Нет, впрочем… Так, попробовал только…
Я стремительно сорвался с кресла и бросил ветку в красивую урну, что стояла у дверей на балкон.
— Вы очень верно поступили, — удовлетворенно закивала она, когда я сел снова в кресло, и на мой вопросительный взгляд пояснила — Разве можно есть этот ужасный виноград? Это дурной сорт, одичавший. В этом году его будут вырывать и заменять.
— Благодарю вас, мадам Каллерой… — И, предупреждая ее вопросы, я беспечно пояснил — Виноградом угостил меня какой-то мальчик-грек!
— У него стыда нет! Угощать русских гостей таким виноградом! Ну были бы вы перс или турок, а то ведь мы одной веры… Если завтра увидите, покажите мне его!
— Не беспокойтесь, это мелочь, право же, мадам Каллерой!
В холле раздался дружный смех — что-то комическое произошло на экране. Засмеялась и моя соседка. Это было очень кстати: я тоже засмеялся, представив, как мои друзья-храбрецы крадутся по заброшенному винограднику и падают ниц при каждом подозрительном шорохе…
— И все же я хотела бы вам перевести кое-что из этого глупого фильма, — утирая глаза платком, вновь предложила мадам Каллерой.
— Ради бога, не беспокоитесь! Я лучше пройдусь перед ужином. — Я уже сделал движенье встать, но приостановился и решительно спросил — Но прежде чем я уйду, мне бы хотелось услышать от вас…
— Да. Я слушаю, — она повернула ко мне голову.
— Насколько серьезно то, что было сказано вами на пароме?
— Уверяю вас: все серьезно.
— Тогда позвольте последний вопрос: что это за человек, интересующийся мной?
— Это важно? — наивно спросила она и, видимо поняв эту наивность свою, замигала, отчего слегка задергались припухшие под глазами мешки полукружья.
— Поймите, мой интерес легко объясним…
Она отвела глаза, глянув на вошедших в холл моих товарищей, вернувшихся с прогулки, — моего московского друга с женой и ленинградского писателя с дочерью, и коротко ответила:
— Одна дама…
Я помню час глухой бессонной ночи,
Прошли года, а память все сильна.
Царила тьма, но не смежались очи,
И мыслил ум, и сердцу — не до сна.
Не помню, как обстояли дела с сердцем, но Блок не покидал меня в ту ночь довольно долго. Возможно, подействовал продолжительный разговор о поэте с нашим блоковедом, состоявшийся как-то утром в Афинах, — разговор, дошедший до чтения стихов, но сбрасывать со счетов ту аэродромную встречу было выше сил. Не приведи бог раздумывать по ночам на эти огненные темы! Так и стояла в глазах та молодая женщина в черном платье, и все плыла передо мной ее рука, зовущая в машину.
![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149744/149744.jpg)